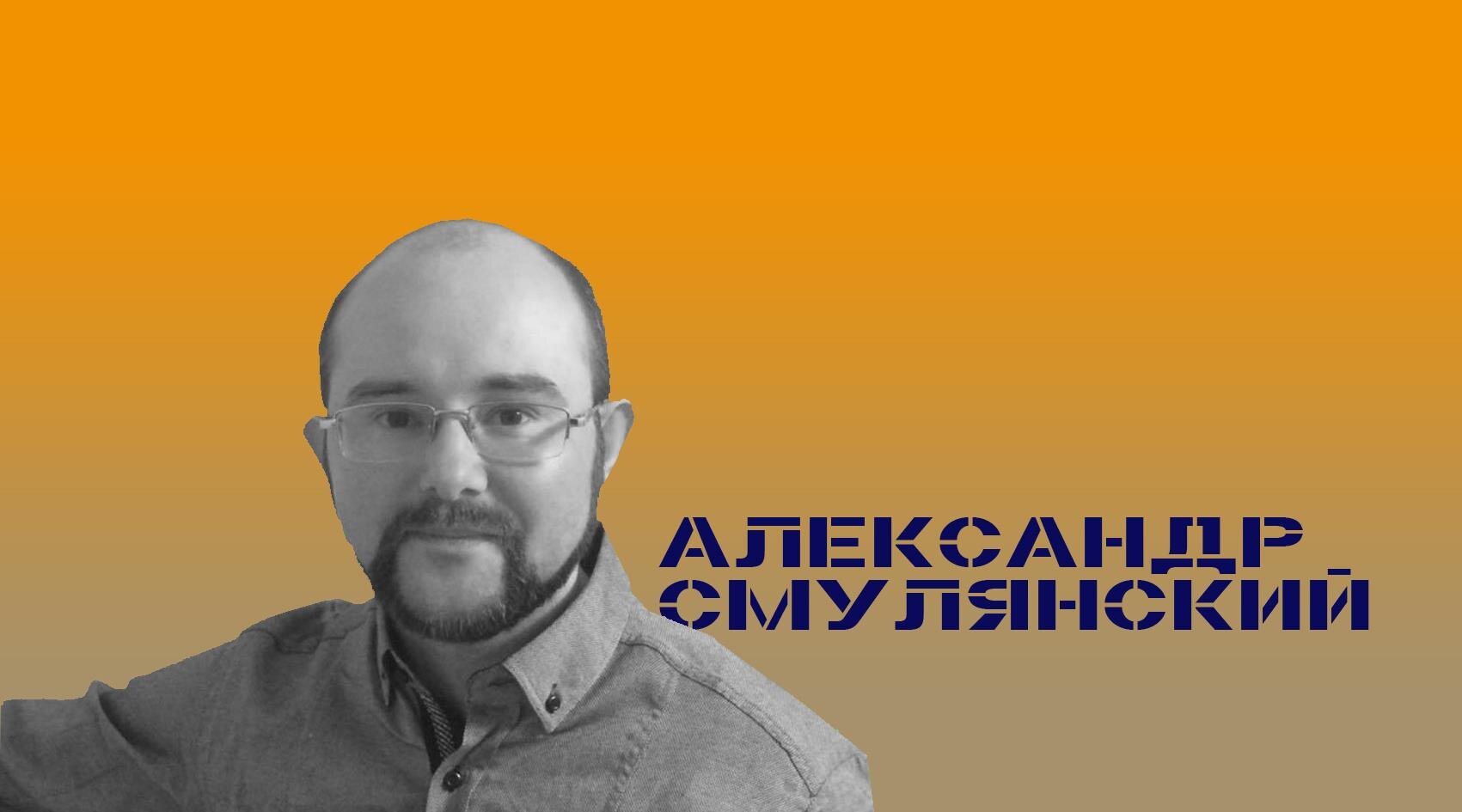
Александр Смулянский — философ и психоаналитик, автор первой русскоязычной монографии, описывающей вклад Жака Лакана в теорию и клинику невроза навязчивых состояний. Ведет семинар «Лакан-ликбез», выпустил три книги, недавно вышедшая из которых — «Метафора Отца и желание аналитика: сексуация и ее преобразование в анализе».
Настя Калита поговорила с Александром про эпоху модернизма и ее влияние, экологическую катастрофу и современную интеллектуальную сцену, если таковая вообще существует.
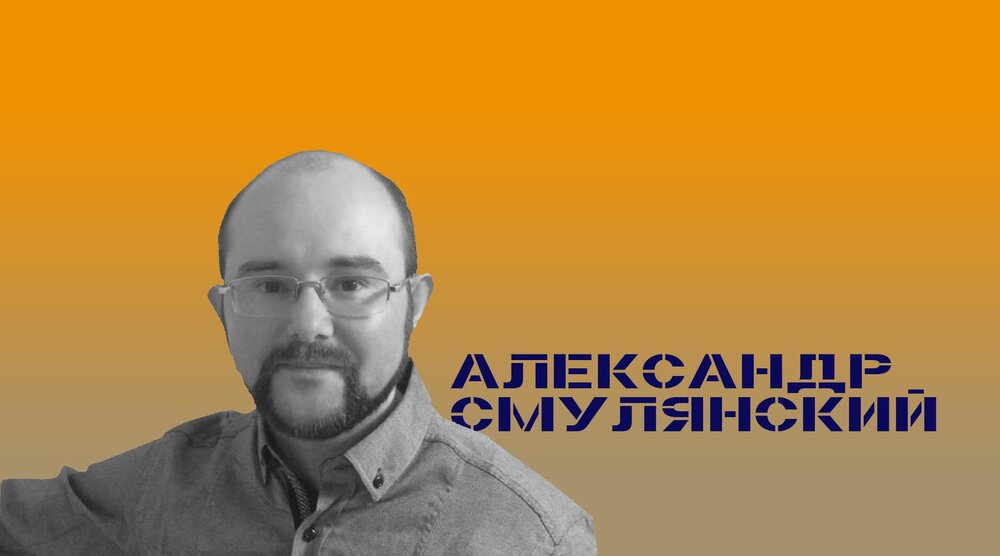
Хочу начать с интервью, которое вышло в последнем номере «Художественного Журнала», и вашей фразы: «В области обсуждения искусства мы неизбежно находимся в поле проблем и понятий, сформированных философией и публицистикой XIX столетия». Как тогда быть с XX веком? Возникает фовизм и множество других «-измов», модернизм, например, который как раз и дал много языков и методов. Почему вы говорите только о XIX веке?
Возможность превратить понятие в течение, обозначенное его именем, закладывается в эпоху постгегельянства, тем самым окончательно сформировав то, что Лакан (французький психоаналітик та психіатр — прим. ред.) впоследствии назовет «дискурсом науки». С этой точки зрения популярный спор о том, следует ли возводить возникновение научного дискурса к его философским задаткам или же, напротив, видеть в нем принципиально иной тип знания, лишается смысла, поскольку наука — это вовсе не то что имело бы философию в качестве своего отвергаемого начала или же, напротив, успешно зарождалось в ином месте, а то, что манифестирует ситуацию, возводимую к субъекту, занятому вопросом самосознания. Здесь следовало бы особо подчеркнуть разницу между самопознанием и самосознанием, поскольку путаница между ними неистребима — чтобы сразу ее исключить, следует сказать, что никакое самопознание к возникновению науки еще ни разу в истории не приводило. В то же время самосознание, несомненно почерпнутое у Декарта (французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії — прим. ред.) Гегелем (німецький філософ, який створив систематичну теорію діалектики — прим. ред.), оказалось существенно модифицировано, дав начало языковым отношениям нового типа. Если у Декарта заявка самосознания представляет собой не что иное, как грамматическую конструкцию, призванную перформативно обеспечить достоверность, то в случае Гегеля она непосредственно оборачивается работой с идеологией. Именно здесь, в переплетении с наукой, идеология порождает определенный способ задействования речи.
Это задействование оказывается в качестве проекта настолько успешным, что начинает самостоятельно функционировать в качестве того, что можно назвать «агрегатом». Речь о чем-то таком, что встраивается во все отправления субъекта, и, будучи встроенным, создает ситуацию, когда к другому языку прибегнуть уже не получается.
При этом «научным» мы называем этот язык не в том смысле, в котором пользующийся им субъект был бы точен в выражениях или демонстрировал повышенную осведомленность, чего на самом деле от него не требуется — субъект этого языка может быть сколь угодно профанным: именно это и указывает на успех произошедшего встраивания, поскольку от субъекта не ожидается какой-то специальной подготовки. Требования, предъявляемые ему, в этом отношении минимальны, потому что язык этот оказывается языком не науки и ее дисциплин, а самого широкого использования — иное дело, что функционирует он не постоянно.
Что это за язык?
Это язык представляет собой в своем роде паразитарный аналог языка, о котором говорит Хайдеггер (німецький філософ, працював у напрямках феноменології та герменевтики — прим. ред.), призывая, насколько возможно, вернуть к жизни совершаемые им операции. Интрига состоит в том, что язык, на который Хайдеггер рассчитывал как на средство возвращения утраченного способа мыслить бытие, легко может обернуться чем-то монструозным и упрямо преследующим субъекта, и именно это по иронии вещей и происходит. Данный язык не только уже находится в деле, но и занимает нишу, где он оказывается безальтернативным. Его облик представлен на первый взгляд необработанными, но в то же время схематичными соотношениями, в которых высказывание не просто определенным образом затребует объект, но и само по себе стремится к состоянию, в котором этот язык ложится в основу того, что мы сегодня называем «фантазмом».
Как фантазм в той его части, которая сращена с языком, выглядит сегодня? Его открытые, крайние проявления выступают на первый план, когда субъект, например, находится в состоянии ажитированного бреда, в котором все сводится к коротким тревожным наблюдениям за невидимым для окружающих планом происходящего. В этих случаях можно заметить, что дело не столько в травматическом обеднении психики, сколько в сведении речи к определенным операциям. Эти операции, как правило, концентрируются возле динамических терминов; так, субъекту кажется, что нечто его преследует или что на его глазах происходят какие-то столкновения между объектами, на которые невозможно повлиять. Субъект в этом состоянии может заявлять, что он, как ему кажется, наблюдает множество мелких объектов, которые находятся в агрессивном отношении либо к нему самому, либо к другим объектам, из-за чего ему приходится преодолевать нагромождения созданных ими препятствий, сортировать их или же избавляться от наиболее назойливых, прикрепившихся к его телу, энергично пытаясь от них отделаться.
Можно, как это делают физиологи, возводить эти операции к типичным нарушениям мозговой деятельности и тем самым полагать их общечеловеческими. В то же время психоанализ заставляет смотреть на них как на следствие того, что субъект так или иначе улавливает, извлекает из доступной ему актуальной языковой структуры. Даже в случае самых развитых форм высказывания можно усмотреть появление суждения, соответствующего этой структуре, в тот момент, когда критик, рассуждающий о современном искусстве или политике, выдвигает вердикт, в котором вещи так или иначе находятся в описанных выше отношениях. Явления сталкиваются, вступают в противодействие, надвигаются или осаждают говорящего. В критике искусства, как правило, это вопрос о том, до какой степени произведение искусства совершает взлом, выдвигается в реальность, выражает порядок вещей, совершает его критическое преследование. Наблюдения такого типа среди искусствоведов распространены повсеместно. В рассуждениях о политике даже самый изощренный анализ так или иначе возводится возле суждения о том, до какой степени в ближайшее время может измениться ход вещей, совершив вторжение в текущее состояние. Мы привыкли возводить заключения такого рода к деятельности высокоинтеллектуальной, но нет сомнения, что в них есть что-то от делириозного состояния. Всякий раз, даже при наличии глубокой культуры говорящего и совершаемых им вполне удачных наблюдений, одновременно имеет место наиболее примитивное описание того, что происходит с воображаемым объектом, и это есть, собственно, то, что мы почерпнули из языка науки. Субъект не анализирует положение вещей — он видит сон о приключениях фантазматического объекта.
Світлина: зліва направо — Мартін Хайдеггер, Акселос, Жак Лакан, Жан Бофре, Ельфріда Хайдеггер та Сильвія Батай (тоді ще дружина Лакана).
В этом смысле можно говорить о «лакановском пессимизме», поскольку до Лакана философы были убеждены, что если что-то противостоит современному отчуждению, вносимому технологиями и капитализмом, то это именно фантазм. Если обратиться к Герберту Маркузе (філософ, теоретик марксизму, один з представників Франкфуртської школи — прим. ред.), то можно обнаружить это представление в наиболее бескомпромиссном виде: то, что может спасти субъекта от отчуждения, которое принимает все более злокозненные и тонкие формы, в том числе прикидываясь освобождением, так это то радикальное, что содержится в фантазме, получающем, например, выражение в произведениях искусства — так говорит Маркузе. Лакану удается ему возразить, указав, что подобный проект является утопией в чистом виде. Если фантазм модернистского субъекта из чего-то и соткан, то это и есть язык науки.
Ваши слова напомнили мне про Славоя Жижека (словенський психоаналітик лаканівської школи, марксистський соціолог та культуролог — прим. ред.), который сказал, что модернизм — это один из величайших периодов за всю историю искусства и культуры. Что вы думаете по этому поводу?
Здесь важно не столько его величие, сколько то, что модерн является единственным периодом, заговаривая о котором, говорят только и исключительно о его границах. Здесь возникает коллизия, связанная с перестановкой посылок: так, критик может полагать, что проект модерна требует преодоления именно в силу своей замкнутости, нахождения в границах определенного типа. При этом все обстоит скорее наоборот — именно вписанный в модерн императив преодоления задним числом предполагает наличие тесных и неудобных границ периода — границ, о преодолении которых никогда не заговаривали в сообществах предшествующего типа, где эти границы с нашей современной точки зрения были установлены гораздо жестче — например, в периоде Средневековья. Модерн в этом плане подобен бутылке Кляйна (мається на увазі замкнена одностороння поверхня, що не має країв — прим. ред.) — ничто не препятствует свободному передвижению по ее одной-единственной поверхности, при условии, что выход для вас неприоритетен, но субъект, совершая прогнозы на будущее и ожидая выхода, сам оборачивается для искомого им движения непреодолимой преградой.
Это же касается и вопроса «изобретения другого языка», что бы под этой инаковостью ни понималось. Изобретение языка, внесение новизны оборачивается чем-то таким, что представляет собой новый этап соскальзывания к тому самому режиму функционирования науки, о котором выше шла речь. Если говорить, например, о современных последствиях делезианства, где претензия на смену основания выражена наиболее бескомпромиссно, прежде всего заметно, что в этом философском проекте происходит смена языкового режима не по ту сторону, а внутри того фантазматического измерения, о котором выше шла речь. Требуя актуализации концептов скользящего, расплывающегося, уклоняющегося от тематизации здесь, с одной стороны, требуют противоположности всему статичному и иерархичному, что составляло стилистику прежнего типа мысли, которую можно было бы назвать реализацией фантазма, построенного на желании улавливать объект, одновременно страшась последствий сближения с ним. Но объявляя о противодействии этому измерению, мы лишь задействуем другую ипостась фантазма — фантазма пропажи объекта из вида, упускания его сквозь пальцы. Именно по этой причине Жак Деррида (французький філософ сефардського походження, засновник філософії деконструкції — прим. ред.) возражал Делезу (французький філософ — прим. ред.) и его проектам, указывая на то, что вводимого ими противопоставления недостаточно. Если мы провозглашаем курс на то, что сегодняшние делезианцы называют «слизью», лишенной свойств, удерживающих ее в качестве формы, то, тем не менее, такое противопоставление не может быть ни поводом, ни платформой для какого-либо масштабного социального и языкового переворота. Мы остаемся в границах того же самого фантазма — это фантазм двигательный.
Сейчас в Украине много событий, связанных с выходом на первый план тем экологии, антропоцена, кибервойны, Чернобыля. Как вы думаете, почему именно сейчас человечество поднимает эти вопросы, кроме того, что мы очевидно движемся к катастрофе. До какого уровня может дойти истерия в обществе и чего стоит ждать?
Здесь сказывается другой режим функционирования науки, который относится не столько к языку-конструкту, сколько к тому, что можно назвать этической амбицией науки как таковой. С самого момента своего образования наука создавала в субъекте основания для умеренного оптимизма — при условии, что субъект окажется способен от задаваемого наукой пути не отклоняться. Если что-то в науке — в эпоху еще нетронутого модерна — функционировало непреложно, так это то, что можно было назвать борьбой с тревогой субъекта. Наука не просто обещала существенное продвижение и улучшение качества жизни с появлением технологий, которые субъекту были недоступны ранее, но она посылала еще и более широкое сообщение, связанное с указанием на то, что существует определенного рода приращение в самом субъекте, обещающее свести тревогу к ее призраку, к нулю. Хайдеггер позже назвал это «субъектом+» — это приращение может касаться как преимуществ данного субъекта и окружающей его инфраструктуры, так и того, что в этом субъекте указывает на способность влиять на происходящее — в частности, менять текущую ситуацию.
Невзирая на то, что успехи науки в различное время были разнообразны и не всегда совпадали с прогнозами, тем не менее она неизменно утверждала, что изменение мира субъекту доступно — и любопытно, что философия модерна лишь позднее, в лице одного лишь Маркса и с целым рядом оговорок, сумела к этому обещанию присоединиться.
После того как модерн вошел в состояние замешательства — на самом деле возникшем задолго до того, как заговорили о так называемом «постмодерне», — субъект утрачивает отвечающий призывам науки аффект. Само по себе это нимало темп научных достижений не ослабляет, что лишний раз доказывает, насколько слабо наука зависит от расположения и настроений общества в целом. Тем не менее, субъект ближайшей современности становится чувствительным совершенно к иным вещам. Так, он приобретает вкус к правам и свободам отдельных групп, к тщательной регистрации следов непоправимого ущерба, нанесенного прогрессом и властью. В этом субъекте проявляются следы трансцендентального повреждения — того, что сегодня изучает философия травматической памяти.
В этот момент нечто происходит и с исходящим от науки сообщением: она начинает утверждать, что вмешательство субъекта и его достижения в освоении мира не только не оборачиваются приращением, но, напротив, могут его подорвать и ослабить. Об этом, например, говорит экологическая повестка, которая буквально гласит: чем больше вы производите благ, тем хуже вы себя чувствуете.
В этом смысле наука занимает совершенно другую позицию. Если ранее ее было принято связывать с безудержным прогрессизмом и связанным с ним выигрышем в виде овладения знанием, нацеленным на изменение среды, то после Второй Мировой войны наука начинает выступать против субъекта и его выгод. Возникает то, что можно было бы назвать сопряжением науки и инстанции Супер-эго, которое, как известно, к субъекту относится крайне строго, преследуя все его начинания и нападая на его энтузиазм, который полностью связывается теперь с получением наказуемого удовлетворения, за которое придется так или иначе расплачиваться.
Тем самым наука резко ставит под вопрос все то, чем субъект может наслаждаться при ее помощи. Раньше всего это стало заметно в научно-медицинской пропаганде, с конца 50-х годов упирающей на то, что улучшенный при помощи научных достижений образ жизни, связанный с достаточным питанием, использованием транспортной инфраструктуры и проведением комфортного досуга создает предпосылки для появления системных заболеваний и ранней смерти. На этом этапе еще можно было доверять впечатлению, что речь идет о неких несистемных издержках научной пропаганды и что социальные последствия научного знания ставит под сомнение скорее социальный критик-гуманитарий. Даже сегодня кое-кто еще придерживается этого мнения, полагая, что науке требуется этическая критика извне и осуществлять ее должен носитель, например, философской культуры.
Впечатление это, на мой взгляд, ложно — с определенного момента наука сама прекрасно справляется с созданием алармизма на собственный счет. Сегодня практически по всем направлениям наука сообщает субъекту, что всякий раз, когда он, выступая пользователем ее достижений, наслаждается, он действует себе во вред. То, что можно назвать критикой антропоцена — предчувствием спровоцированной политикой потребления катастрофы, апокалиптическим настроением, связанным с климатическими изменениями, независимо от того, полностью ли мы доверяем ученым в этом вопросе — указывает на то, что научные данные ставят своей целью осадить субъекта в уже сформированных в нем ожиданиях. Независимо от того, насколько учение об изменении климата и скорых его последствиях достоверно, его этический посыл очевидно репрессивен — он сообщает, что более рассчитывать на достижения науки нет смысла: теперь каждый субъект должен расплатиться за ранее полученные им удобства тем, что называется «ответственным поведением»: контролем за сортировкой мусора, сбором крышечек, отказом от использования определенных позиций потребления и т. п.
Возможен ли какой-то выход из этой ситуации?
Как правило, субъект ограничивается тем, что, частично отвечая на изменившееся требование и исчерпав свои возражения, впадает в состояние ожидания. Как правило, защищаясь, он вырабатывает скептическое отношение, фиксируясь не на общих прогнозах, а на частных промахах и преувеличениях, которые из научной идеологии приходят в массы. Их действительно немало: так, например, практически вся история медицинской диетологии — я имею в виду не отдельные парамедицинские эксперименты, а большие, достигающие размаха государственных и даже межнациональных, колебания трендов относительно «сбалансированности питания» — несколько раз оборачивалась замешательством и сменой вектора. Все это ведет к появлению иронического отношения — точно такого же сорта, какое сегодня наблюдается по поводу климатического вопроса. Но само это отношение практически никогда не связано с сомнениями по существу — у масс нет никаких данных по этим вопросам, они реагируют исключительно на то, что прочитывается ими в качестве «нового морализма» науки, ее притязаний на позицию Сверх-Я в вопросах регуляции потребления и внедрения нового аскетичного потребления. С этой точки зрения можно говорить о надвигающейся и уже набравшей известную силу волне нового «научного викторианства», особой строгости в предъявляемых к образу жизни и пользования окружающей средой требованиях. У такого викторианства всегда будут противники, субверсирующие его притязания, и их позиция будет усиливаться вместе с успехами этой новой строгости. В этом смысле для многих будет большим искушением искать выход именно там.
Точно такие же процессы уже происходят в области регуляции, связанной с потреблением совершенно особым — сексуальным: на большую часть позиций в этой сфере будет наложено вето. Эта регуляция может показаться находящейся поодаль от сферы идеологии науки, но на деле она продиктована точно таким же типом вмешательства.
О тех, кто уже сегодня против: правые силы, как кажется, во многих европейских странах набирают обороты, и в Украине мы это наблюдаем тоже. Как вам кажется, почему это происходит? Неужели левые терпят неудачу потому, что они не эффективны сегодня?
Исключительно чтобы не запутаться в том, что является правым, а что — левым, и в то же время не вступать в спор по этому поводу, который сам по себе устарел, при том, что ситуативно-политические определения этих понятий еще более устарели, имеет смысл прибегнуть к различию психоаналитического характера, которое позволяет точно, хотя и несколько альтернативным способом, определить места, занимаемые так называемыми праваком и леваком на современной сцене.
Если продолжить и развить размышления Лакана на этот счет, то левых мы можем определить, как тех, кто ориентирован на подозрение в направлении истины, а правых, соответственно, на тех, кто питает подозрение в отношении наслаждения. Это вовсе не значит, что за леваком, сегодня причудливо сомкнувшимся с условным «либералом», находится источник наиболее непредвзятого знания, а сильной стороной правака якобы будет являться неприступность в вопросах религии и этики. Скорее напротив: левак не знает, во имя чего он ставит истину под вопрос, тогда как условный консерватор точно так же не отдает себе отчета в том, какое именно наслаждение им критически преследуется. Здесь, вероятно, необходимо сделать предупреждение, чтобы эти термины не были приняты за нечто общепонятное: наслаждение не подразумевает того, что здесь ищут только удовольствия, равно как и за истиной не имеется в виду добродетель философского свойства.
То, что интересует левака, исходит из того места, где он взаимодействует с тем, кого Лакан называет «неучем» — именно из этого левый извлекает наслаждение, сообщая неучу, что ему предстоит, поставив под сомнение то, что ему дано как истина, переучиваться заново. Поэтому всякий раз, когда левака подозревают в проплаченности, подозрение это должно быть переформулировано. С одной стороны очевидно, что в своем вульгарном виде оно носит конспирологический, даже бредовый характер. В то же время нет сомнений — и здесь правый критик может быть по-своему прав — что левый за свои просветительские услуги чем-то берет, но берет не благами, а наслаждением, причем наслаждением не своим, а субъекта, которого он опекает. Именно здесь и возникает коалиция, которая приводит левоориентированные движения в университеты, поскольку университет изначально заточен на обращение с неучем — студентом. Но для левака неуч выступает в другом виде: это субъект, которого нужно относительно собственного наслаждения просветить. Это может быть субъект меньшинства: национального, сексуального, имущественного или гендерного, субъект с психическими особенностями или имеющий аддикцию — то есть явно отмеченный, как это называет психоанализ, нехваткой того или иного типа. То, что делает левак, занимаясь его просвещением, буквально означает, что поврежденный, помеченный принадлежностью к этому меньшинству субъект вместе с его нехваткой берется под крыло.
С этой точки зрения нужно указать, с одной стороны, на известную оправданнность подозрения консерватора в отношении наличия этого несанкционированного с его точки зрения наслаждения. Именно это — и ничто иное — сегодня объясняет рост популярности правых движений. В этом смысле они больше не являются ни оплотом старорежимности, ни гарантом сохранения предыдущего общественного состояния, и само обозначение их как «консервативных» теряет смысл. То, что делает правака втайне симпатичным даже для тех, кто придерживается умеренно прогрессистских взглядов — это его готовность чутко улавливать и преследовать наслаждение, производимое левым интеллектуалом, активистом или правозащитником вплоть до самых дальних его рубежей.
С другой стороны, следует указать на изъян этой позиции, поскольку правый субъект все же заблуждается. С его точки зрения производимое леваком наслаждение полностью совпадает с тем наслаждением, которое производят опекаемые в левом дискурсе меньшинства. Так, если левака волнует, например, неправомочность репрессий в отношении «нетрадиционной» сексуальной ориентации, то правый критик буквально подозревает левого активиста в заинтересованности тем типом наслаждения, которое с консервативной точки зрения из следования этой ориентации вытекает. В этом смысле, наблюдая как левый активист обучает представителя меньшинств защищать свои права, консерватор оказывается возмущен, полагая, что активизм заинтересован исключительно в распространении наслаждения, производимого деятельностью его подопечных. Именно отсюда возникает характерное подозрение левого активиста в содействии некоему непристойному наслаждению — подозрение, приобретшее сегодня общегосударственный размах и выразившееся в политических преследованиях.
На самом деле, верно улавливая, что левый субъект занят производством наслаждения, jouissance, правак ошибается относительно того, что это jouissance левака может совпадать с наслаждением опекаемых. На самом деле то, что производит левый субъект — и в этом, собственно, и заключается неочевидный смысл его активизма — это наслаждение совершенно новое, которого никогда еще на общественной сцене не существовало. Чтобы его извлечь, леваку необходимо войти в соприкосновение с субъектом угнетения того или иного типа, но осуждаемое, репрессируемое наслаждение этого субъекта, которое левый таким образом попечительски легализует, не совпадает с тем наслаждением, которое сам левый активист из этой ситуации извлечет и которое станет в итоге достоянием публичности. Другими словами, насладиться отношениями с субъектами своего же пола или насладиться самим существованием субъектов, которые своими любовными практиками опровергают традиционную комбинацию полов — это не одно и то же.
Это несовпадение двух типов наслаждения необходимо иметь в виду — так, способность масс извлечь для себя что-то из существования гомосексуала, квира или, например, сохранившего творческие способности аутиста полностью зависит от посредничества левого интеллектуала. В этом смысле левое движение действительно небескорыстно, но исключительно потому, что оно монополизирует право заниматься производством на ниве, которая без него остается непроизводительной, тавтологичной — произвести какое-либо иное наслаждение помимо того, которым субъекты нехватки уже располагают, последние самостоятельно, без посредничества левака неспособны.
В этом смысле проницательность того, кого мы по привычке называем консерватором, всегда простирается лишь до определенной черты: он видит факт извлекаемого наслаждения, но не может различить, что в этом наслаждении является исторически новым, а что относится к уже произведенному. В этой перспективе правоориентированный субъект постоянно будет занимать позицию, с которой многие готовы солидаризироваться, что видно из последней дискуссии Жижека и Питерсона (Джордан Пітерсон — клінічний психолог, професор психології — прим. ред.); но в то же время, в более широкой перспективе он будет проигрывать, потому что оказывается не в состоянии это различие провести. В то же время различие это является ключевым: если сегодня существует какая-либо материя, которая могла бы послужить залогом того, что мы называем воспроизводством в самом широком смысле этого слова, включая воспроизводство системы как таковой, — это материя наслаждения. Отказ от нее в ближайшей перспективе видится невозможным. В этом смысле левоориентированный интеллектуал и активист в перспективе будут занимать большую часть сцены, и их влиятельность продолжит расти.
Славой Жижек та Джордан Пітерсон на дебатах
Какая возможна развязка этого противостояния или ее не может быть?
Ответ дает Лакан, указывая на то, что любое левое движение — это то, что очень тесно, почти интимно сопряжено с дискурсом Университета. Под дискурсом Университета Лакан понимает особый срез состояния современного общества, определяющего его в тех следствиях, что как раз регулируют отношения истины, знания и наслаждения. Перспектива просматривается до того неразличимого предела, до которого мы способны просмотреть действия этого дискурса. Пока невозможно представить, чтобы правоориентированные взгляды возобладали — по крайней мере среди интеллектуалов, но, с другой стороны, можно представить, как они будут побеждать точечно, а повестка, которую производили левые в 2000-е — в частности, это гендерная повестка, поскольку на нее сегодня с тех пор ставится наибольший акцент — данная повестка будет подвергаться все более активной критике, не только со стороны тех, кто смотрит на гендер консервативно, но и со стороны тех, кто будет питать сомнения по поводу самой методологии определения гендера и гендерных свобод.
Точно так же правые будут мало-помалу побеждать на территории социально-критической теории, которую левые практически окончательно выпустили из рук. По всей видимости речь идет о кардинальном переломе ситуации, которая долгое время определялась двумя наиболее крупными историческими источниками – франкфуртской критической теорией и всплеском интеллектуального активизма 60-ых. Правоориентированный субъект будет совершать вклад в критическую философию, которая уже давно, в опоре на марксистские источники, ставит под вопрос дискурс защиты прав — это в том числе и тот самый способ, которым действовал Деррида, например, в работе «Призраки Маркса», считая, что было необходимо как можно скорее адресовать хорошо обоснованное сомнение тому, что можно назвать «гуманитарными инициативами», базирующимися не на анализе ситуации, а на представлении о некоей изначальной слабости отдельных групп субъектов, которым необходимо прийти на помощь средствами пропаганды изменения общественного отношения к ним. Мы видим, что представление об этой слабости сегодня превращается в регулятор общественных перемен — тот самый субъект с нехваткой, носящей псевдоонтологический (изначальный и имплицитный) характер становится героем современности и основным приложением усилий прогрессистов.
Дело не в том, что борьба за улучшение положения этого субъекта должна быть прекращена (например, в виде буквального сворачивания правозащитной и благотворительной инициативы — Деррида, конечно, не это имеет в виду и навряд ли был бы на стороне нынешней консервативной государственности в этом вопросе), а в том, что сам язык этой инициативы и тот способ, который она использует для сущностного определения ситуации прямо указывает на то, что Ницше называл рессентиментом. Существует определенная проблема, связанная с языком тех, кто сегодня придерживается правозащитной повестки. В этом смысле правые будут оказывать услугу, кажущуюся многим неоценимой, поскольку сегодня производство сомнения находятся на их стороне — в отличие от предыдущей философской ситуации, когда критическое сомнение производили именно левые.
Почему произошла такая перемена?
Исключительно в виду озвученной выше эскалации производства jouissance, наслаждения, превратившегося сегодня в основной продукт, что и было Лаканом в последних своих семинарах предсказано. Пока основным продуктом, определявшим облик современности, выступала прибавочная стоимость, очевидно, что левые занимали те самые ключевые критические философские позиции, которые позволяли оставаться актуальной тому мощному социально-критическому направлению философии, начавшему развиваться в младогегельянскую эпоху и закончившемуся на последователях Франкфуртской школы, последним представителем которой является Юрген Хабермас (німецький філософ і соціолог, представник нової генерації «франкфуртської школи» — прим. ред.). Теперь, когда главным продуктом становится стало прибавочное наслаждение, производством которого занялись те, кто ранее был представителем критики, находящимся (или воображающим себя находящимся) вне товарного производства, факел критики перешел к тем, кто придерживается охранительной повестки и в производство не включен.
Как вам кажется, сегодня философия и психоанализ являются мощными голосами в современном мире? Какое влияние они оказывают и насколько сейчас актуален Лакан для всех нас?
Этот вопрос сложен по той причине, что задавать его можно только исходя из определенной логики признанности тех или иных фигур. Сегодня эта логика подходит к концу, и если говорить о сцене, на которой возможно господство могущественных фигур мысли, превалирование которых никем не оспаривалось бы, то сегодня этой сцены, похоже, больше не существует — во всяком случае, мы находимся среди тех, кто использует ее в момент ее стремительно происходящего демонтажа. Сегодня, обращаясь к определенному набору имен, приходится отдавать себе отчет, что перечень этот релевантен не для любого круга интеллектуалов. Очевидно то, что неполная релевантность имела место и раньше, но в то время, которое мы обсуждаем сегодня, говоря, например, о «ключевых» фигурах XX века, действительно было что-то наподобие интеллектуальной сцены, в отношении которой каждый новый интеллектуал волей-неволей должен был сориентироваться, решив, имеет ли смысл к ней принадлежать или нет. Можно сказать, что последним представителем эпохи этой сцены является Славой Жижек. При этом интересно, что занимает он ее не совсем теми средствами, которыми занимали ее те, кто пришли до него: он не стремится взять ее со стороны обширной эрудиции или хорошего классического образования. Более того он поддразнивает зрителя, сообщая, что образование ему ни к чему и что он является недоучкой. Так или иначе, даже если списать это на кокетство, Жижек очевидно оказывается последним из тех, кто удерживает в соединении стремительно расползающиеся края: он занимается современной политикой в свете последствий структуралистского учения — то есть представляет собой последнюю фигуру, которая настаивает на существовании единого поля мысли.
Сегодня, похоже, этого поля больше нет, как нет и символического капитала, который можно было бы набирать с уверенностью, что он будет срабатывать на большой временной протяженности. Это сказывается на судьбе учений фигур, которые оставлены позади: сегодня французские структуралисты не имеют прежнего влияния, но не потому, что они, как это бывает со сменяющимися волнами мыслителей, утратили актуальность, а напротив, невзирая на то, что их повестка была совершенно не освоена. Возникает парадоксальная ситуация, в которой то, что было только намечено Деррида, продолжает требовать воплощения в критической мысли и сделалось со временем в свете его сбывшихся предсказаний еще более актуальным. Но, похоже, никто эту критику не может продолжить, поскольку Деррида оказывается чем-то нечитаемым — не только с точки зрения статистики интереса к его работам, но и с более принципиальной, связанной с утратой возможности продолжающего прочтения. Это особенно хорошо заметно вдали от философских метрополий, там, где волны интереса и освоения зависят исключительно от переводческой инициативы. Так, у нас, например, до сих пор не переведены дерридианские «Политики дружбы», и никто не может объяснить, почему этого не произошло.
Потеря влияния является негативной тенденцией или скорее подразумевающей, что так и должно быть?
У этого обрыва есть причина, и она связана с рядом мелких кризисов, которые перенесло интеллектуальное поле. Дело в том, что в 70-е годы имел место прочный консенсус относительно места того, что можно назвать философским, теоретическим вкладом, и напротив, вкладом активизма, который занимал другое общественное и символическое поле. На происходящую регуляцию в этом вопросе указывает, например, история с феминистскими авторами, которые пытались нападать на лакановское учение, в числе которых была Люси Иригарей (французька психоаналітикиня, феміністська філософиня та мовознавиця — прим. ред.), уволенная из университета по причине резко критического труда в адрес психоанализа. В то время им был послан ясный сигнал о том, что делать этого не следует, поскольку это не та сфера, в которой они действительно влиятельны и компетентны. Этот защитный механизм действовал довольно успешно, и в определенной степени он действует и сегодня, на что ясно указывает, например, недопущение или выдавливание мыслительниц и активисток, принадлежащих к радикальному феминизму, из академического поля даже там, где оно носит вполне прогрессивный и прозападный характер.
Тем не менее, это различие постепенно перестало срабатывать, и феминистская повестка, связанная в том числе с критикой мужского господства и насилия, оказалась в своем роде превалирующей над повесткой критико-философской. Это не значит, что здесь должны появляться основания для высокомерной «интеллектуальной паники», требующей защиты высокой теории от «варварских посягательств». Это было бы неправильным стратегическим ходом, ведущим к дальнейшему устранению академической философии за пределы актуальной сцены. Достаточно лишь констатировать произошедшее изменение, которое, несомненно, будет определять дальнейшую интеллектуальную программу, влекущую за собой дальнейшее перетасовывание агентов этой сцены. За то, что мы получаем возможность довольно тонко, с использованием средств феминистской мысли критиковать власть мужчин в современном обществе, так или иначе придется заплатить даже не столько возможностью возникновения новых теорий пола и власти (хотя и ими тоже), сколько тем, что уже было ранее намечено мыслителями, еще не связанными вытекающими из активизма этическими ориентирами. Есть непрямая, но прочная связь между повесткой активизма — феминистского, экологического или любого иного — и тем, что в дальнейшем все более будут пропадать из вида работы философов-структуралистов — того же Деррида, Фуко, Лакана, несмотря на то, что эти мыслители не запятнали себя какой-либо неполиткорректной критикой тех же феминистских инициатив.
Если коротко охарактеризовать ближайшие и уже имеющие место последствия этого устранения, то их можно проследить в опоре на поставленные Деррида в «Призраках Маркса» задачи на ближайшее (по отношению к тому времени, когда он это писал) будущее. Он указывает на необходимость решения следующего перечня: одной из задач является критика прогрессизма, второй — критический анализ того, что связано с заботой о населении, как со стороны политик социального государства, так и со стороны низовых активистских инициатив, а третьей — рассмотрение марксистских перспектив с указанием на то, что в современном марксизме есть нечто, что Марксу больше не наследует. Эти три задачи пока не могут быть решены ввиду того, что на наследие Деррида сегодня больше нельзя опереться: нет ни школы, ни учеников, ни сообщества, которое бы эти вопросы продолжало ставить в достаточном для привлечения к ним внимания масштабе.
В каком направлении, в чьих руках может оказаться интеллектуальное влияние, если философия отходит со сцены? Кто будет наиболее влиятельным?
Я полагаю, что некоторое время, может быть даже несколько десятилетий (этому как раз сопутствует консерватизация ведущих политических режимов) будет господствовать — причем усиливая свое влияние именно снизу — уже названный правозащитный консенсус, связанный с попечением над угнетенными. Многое указывает на то, что у него есть потенции, не связанные напрямую с его практической повесткой — например, в литературной или поэтической нише, где развиваются новые культуры письма и стихосложения, возводимые вокруг тематики угнетения, отсутствия речи, неравного доступа к публичности. Еще десять лет назад эта ниша не имела никакого значения и именно из-за своей ангажированности постоянно оставалась в тени в отношении конкуренции, например, за литературные, поэтические и художественные премии. Сегодня напротив — произведения, основанные на ангажированной повестке, имеют большие шансы не только встроиться в процедуры соревнования, но и получить полноправное внимание критиков. Вероятно, очень скоро это творчество отбросит рамки литературности и совриска как не соответствующие ее задачам и предложит другой тип легализации, обернувшись чем-то другим, непонятным для критиков, сформированным в рамках литературы и искусства доактивистского типа. Для этой критики текущий момент уже остался упущенным, и мы упускаем его все сильнее.
Почему упускаем?
В виду тех кризисных преобразований, которые привели к тому, что ни голос философии, ни голос критического исследования больше не превалирует над голосом активиста, инструментарий для анализа и критики новой повестки больше не вырабатывается.
Интересно, что здесь есть свои кентавры, уже ставшие классиками — исследователи переходного периода, где возобладание голоса активизма еще не произошло. Если говорить, например, о Джудит Батлер (американська філософиня та гендерна теоретикиня, чиї роботи суттєво вплинули на політичну філософію, етику, теорію фемінізму третьої хвилі, квір-теорію — прим. ред.), которая чрезвычайно сведуща в структуралистской философии и умело использует ее инструментарий, то цели, которым она его подчиняет, привели к ускорению перевеса активизма над философским анализом.
Кого бы вы еще выделили из женщин, кроме Батлер?
С одной стороны, складывается впечатление, что искусство Батлер пока не оказалось превзойдено. Но если говорить о того, что происходит на интеллектуальной сцене, то это большое количество женских авторов, в том числе академических, и по всей видимости их будет еще больше.
Важно то, что здесь происходит определенное растушевывание: мы видим, что последователи Батлер совершают выбор в сторону активизма, а не дальнейшего теоретического осмысления. Их желанием является не желание предоставить происходящему осмысление, а желание как можно скорее повлиять на положение дел — на то, что они распознают как связанную с текущей ситуацией несправедливость. Именно женщины-исследовательницы оказываются наиболее чувствительны к этой несправедливости — от чего, собственно, структурализм осторожно предостерегал, показывая, что в этих чрезвычайных условиях мысль начнет обходиться гораздо более скудными средствами. В этом состоит еще одно существенное отличие активистской мысли от, например, классической марксистской мысли, в которой указание на несправедливость, сколь угодно эмерджентную, не выступало препятствием для возникновения более сложной и требовательной теории.
Возможно, это бессознательный процесс, на который женщины опираются?
Это нечто очевидно связанное с желанием, потому что в психоанализе мы не считаем термин «бессознательное» индульгенцией. Сегодня женщина со своим желанием оказывается на стороне активизма, и это бесспорно.
Настя Калита
Над питаннями працювали Давид Чічкан, Ганна Циба, Настя Калита та Володимир Воротньов
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: