
Разговор Оксаны Баршиновой (історик мистецтва, завідуюча відділом мистецтва ХХ-початку ХХІ ст. Національного художнього музею України — ред.), Ольги Балашовой (кандидат філософських наук, мистецтвознавець, художній критик, заступниця генерального директора з питань розвитку Національного художнього музею України — ред.), Дмитрия Гольца (мистецтвознавець — ред.), Лизаветы Герман (мистецтвознавець і співкураторка The Naked Room — ред.) и Марии Ланько (мистецтвознавець і співкураторка The Naked Room — ред.) состоялся в конце февраля, во время и отчасти по мотивам персональной выставки Люси Ивановой в галерее The Naked Room. Поводом для него стала оброненная Дмитрием Гольцем во время просмотра экспозиции фраза о том, что в живописи Люси чувствуется «днепропетровская школа». О том, что Люся училась в Днепропетровском художественном институте (где, кстати говоря, вместе с Егором Анцыгиным ходила смотреть «как на икону» на дипломную работу еще одного выпускника — Олега Голосия), Дмитрий узнал уже из текста к выставке.

О казалось бы неуместном в 2019 году понятии школы и, шире, месте живописи в современном искусстве Лизавета и Мария пригласили поговорить близких коллег, которые работают с этой темой на территории музея, кураторской практики и арт-рынка.

Лиза Герман:
— Повод для нашей беседы простой — мы давно думаем, что с живописью есть незакрытый гештальт. Все привыкли говорить, что искусство в Украине «живописецентрично». Но если говорить по сути — а кто сегодня вообще делает живопись? Из молодых, а не тех, кто уже 20 лет пишет одно и то же. Для нас с Машей это стало открытием, когда мы делали Фестиваль молодых украинских художников в Мыстецьком Арсенале. Мы очень хотели, чтобы там была живопись…
Дмитрий Голец:
— Странно. Помню времена, когда все хотели, чтобы нигде живописи не было.
Герман:
— Мы хотели разные измерения показать. Думали в том числе про графику, про какие-то ремёсла.
Голец:
— Arts&Сraft? (художній рух, важлива предтеча модерну, який сформувався в вікторіанській Англії в кінці XIX століття. Учасники руху прагнули до зближення мистецтва та ремесла, й працювали над впровадженням художніх ідей в предмети побутового вжитку)
Герман:
— Можно и так сказать. Мы хотели расширить диапазон материалов и технических подходов, а не только тем и проблематики. Честно говоря, мы даже немного расстроились, когда не нашли в заявках на участие достаточно живописи, хорошей живописи. Вот Люся Иванова, например, участвовала в фестивале в составе группы «Монтаж», а свои картины не показывала [прим. ЛГ и МЛ: как выяснилось, Люся таки подавала отдельную заявку со своими живописными работами на фестиваль. Мы ее заявку не помним, хотя просмотру всех заявок уделили много времени и внимания. Сегодня нет технической возможности выяснить, дошла ли вообще ее заявка до нас, или мы просто не оценили ее по достоинству]. Тогда мы с ней и познакомились. Я увидела потом её работы на сайте и подумала: «Классно!». Потом мы посмотрели её картины вживую, и: «Где же ты была раньше?!».
Выставка Люси, на которую мы получили много отзывов, это хороший повод обсудить, что вообще случилось с украинской живописью. «Український живопис — міф чи реальність?» (смеется). И второй важный момент, который нас с Машей выбил из колеи, но в хорошем смысле. Это когда Дима пришел и сказал: «О, узнаю Днепропетровскую школу». Тут мы немного «сели в лужу», потому что понятия не имели об этой школе (смеется).
Голец:
— Я это называю «элегический экспрессионизм». Тот же Голосий, к диплому которого Люся ходила за вдохновением. (Когда я учился) в общежитии (НАОМА), в комнате напротив, жили три таких здоровых хлопца — выпускники днепропетровского училища, которые писали совершенно традиционную живопись. Но когда я посмотрел на Люсин мазок — вспомнил их. Одно и то же! Большой хороший свободный живописный мазок. Может я сейчас скажу какую-то ересь, но тут заметен примат живописи над рисунком. У Днепропетровского училища это всегда чувствуется. В отличие от, например, одесской живописи. Ломыкин и все вокруг него — чистый рисунок.
Стоит вопрос о кризисе живописи вообще. Под кризисом не нужно предполагать что-то трагичное, это закономерный процесс. В рамках моих коммерческих практик для меня стала открытием донецкая школа. Она совершенно ни на что не похожа — такой суровый стиль. Но не российский, не питерский. Там гораздо больше живописи. Хоренко писал терриконы в разное время дня и состояниях природы, как Моне — Руанский собор. Это классный пример того, как художник, когда решает формальные задачи, — ему пофиг, Руанский собор это или донбасский террикон (смеются).
Интересно, что когда есть художественный центр, то можно идентифицировать направление. А есть случаи, когда центра нет, как например в Запорожье. Им приходится заимствовать откуда-то еще. Я узнал, что в Запорожье наследовали Владимирскую школу (Ким Бритов, Владимир Юкин и другие). Начал это Колосовский, а потом все подхватили. Поэтому в Запорожье тоже видна некая стилистическая цельность.
Герман:
— То есть школа равняется «фигуре учителя»? Не просто традиция без иерархии, а влияние конкретных фигур? Когда мы говорим «художественный центр», мы имеем в виду преподавателей или все-таки методологию?
Голец:
— Я недавно ходил по мастерским нашего богоспасаемого учреждения [имеется в виду НАОМА]. И там те же живописные ходы, которые были 20 лет назад. Можно сказать: «О, традиция сохраняется, хорошо». Но с другой стороны, сколько ж можно. Там уже другие люди учат и учатся, но почему-то ничего не меняется. Честно, лучше бы некоторые проявления таких традиций вымерли уже.
Ольга Балашова:
— Интересно с биологией сравнивать. Традиция — похожа на ген, который передается по наследству. Но я хотела сказать о другом. Флориан Юрьев на лекции в музее недавно сказал одну важную вещь. Для художника критически важно видеть свои работы на стене рядом с другими.
Оксана Баршинова:
— Безусловно. Отсутствие широкого зрителя сильно сказалось на андеграунде, например.
Балашова:
— Развитие происходит в момент, когда видишь себя среди других и сравниваешь. Потому что до того, как работа появляется в каком-то контексте, её невозможно понять.
Голец:
— Есть ведь и такая проблема: часто галеристы работают только с лояльными художниками. Они вкладывают в художников какие-то деньги, а взамен обеспечивают продажи. Это можно понять, когда галерея живет исключительно за счет продажи произведений. Но с другой стороны, я смотрю на этих художников, неплохих в общем-то: они консервируются и воспроизводят сами себя. Они искусственно изолированы друг от друга — это трагедия для художника.
Балашова:
— Это просто прямая ассоциация с биологией. Извините.
Голец:
— Что это за биодетерминизм? (Ха-ха)
Балашова:
— Я просто об этом много думаю. Очень много похожих процессов. Мы все равно воспроизводим биологические паттерны.
Баршинова:
— Возвращаясь к нашей академии. Можно сказать, что она точно так же изолирована. Она работает на одного заказчика, который все время сокращает свои расходы. Естественно она не выходит на широкую аудиторию, не изменяется. Не удивительно, что живописная школа вырождается, а художники начинают искать где-то на стороне. Если говорить о «тяглості», художники обращают внимание не только на школу, но и друг на друга, на своих старших товарищей. Мы знаем, какую огромную роль играл наш любимый Арсен Владимирович для своего поколения. Его коммерческий успех, и вообще успех, очаровал многих. Не только тех, кого мы относим к Новой волне, лучших художников. Было довольно много эпигонов живописи Новой волны, которые делали что-то подобное, в том числе и в начале 2000-х.


Балашова:
— А я еще застала период, когда украинское барокко было таким вожделенным в плане образов и смыслов.
Баршинова:
— Да, хотя на самом деле, если уж говорить про то поколение, то никакого непосредственного контакта с украинским барокко не было. Не считая разве что Тистола и Панича. Все остальные восприняли традицию украинского барокко через соцреализм. То есть, все, что соцреализм абсорбировал из барокко — с тем они и работали: полемизировали, иронизировали, деконструировали.

Голец:
— Можно посмотреть картины папы Арсена, Владимира Савадова. Там явно видно, откуда его живопись взялась.
Баршинова:
— И поколение группы Р. Э. П., помимо всякого активизма и акционизма, тоже начинало с этого. Для Ксюши Гнилицкой это было органично. Наташа Филоненко много общалась с Жанной Кадыровой. То есть, некая преемственность есть. Сейчас все любят говорить о разрыве поколений. Мол, художники ссорятся и один другого ненавидят. Это не так. А новое поколение смотрит уже не на тех, кто был в 90-х, а на тех, кто успешен сейчас. Художники из 90-х уже маргинализировались в коммерческий сектор.
Балашова:
— Люся Иванова из нового поколения, да? Так она же училась у Лады Наконечной.
Герман:
— Да, в Школе визуальных коммуникаций. Люся очень открыто и честно говорит, что для нее была и остается важной живопись Голосия и Гнилицкого.

Голец:
— Кстати, я отметил этот момент: Люся говорит о живописи как о формальной задаче. А не просто как об одной из техник.

Балашова:
— Мне кажется, это важный момент. Поколение группы Р. Э. П. стало инструментализировать классические техники — рисунок, живопись, скульптуру. Они пользуются этими формами как медиумами. Их мало волнует эта формальная сторона. Медиумы становятся средствами выразительности в процессе решения каких-то других художественных задач. А интересно, что в самой живописи остается какое-то собственное значение. Но какое это место в современной практике? Какое место у живописи в пост-медийном, пост-концептуальном контексте? Мне интересно поговорить именно об этом. Люся отвечает как раз на эти вопросы. Это точно живопись после ремесла. Это не советская школа 20 века и не реалистическая школа 19-го века.
Голец:
— Можем вообще с Веласкеса начать, раз уж на то пошло (cмеется).
Балашова:
— Можно и раньше. Сейчас интересное происходит там, где нет ремесла, а есть что-то другое. Решение формальных задач и очень сознательное использование живописи как живописи, работа с цветом, с материалами. Люся рассказывала, как она долго решалась добавить блестки на полотно.
Голец:
— Люся также говорила, как отходила от традиционного понимания портрета.
Балашова:
— Кажется, портрет для нее — не живопись.
Голец:
— Как портретное сходство расстраивало её и она старалась уйти от этого.
Возвращаясь немного назад…
Балашова:
— В 17 или 16 век? (cмеются)
Голец:
— …в 60-90е годы. Мы тут оперируем штампами. Вот есть «официальная» живопись, есть неофициальная — и они как бы не пересекаются. Потом пришла новая волна, которая оттолкнулась скорее от соцреализма, а не от модернистской традиции и так далее. Но на самом деле, тут же совершенно неисследованное поле. На уровне вопросов кто с кем общался, кто какие журналы видел. Мы же этого всего не знаем. Мы тоже придумали себе довольно удобную схему, которая как бы все объясняет. Но я много раз убеждался, когда занимался художниками разных регионов, что все оказывается не так. Это требует честного и добросовестного исследования. Это первое. Второе — по поводу сохранения традиции живописи в нашем основном учебном центре. Так или иначе Академия учит живописи, по крайней мере декларирует это. Ничему другому она особо не учит. Мы говорили, что там процесс воспроизводится уже в какой-то n-нной степени. И ничего нового я там не вижу.
Баршинова:
— В этом плане очень симптоматично открытие «факультета формального искусства» в НАОМА.
Голец:
— Да, это очень забавно. Какое-то начало 20-го века.
Баршинова:
—Это потрясающе. Это инициировали Блудов и Цой — живописцы скорее салонного толка. Формальное искусство подается как актуальное. Правда, Лада говорила, что на уровне совета Академии ничего такого нет. Но обсуждается также другая инициатива — включить в программу дисциплины, связанные с инсталляцией, перформансом и так далее. Чебыкин вроде бы сейчас этим занимается.
Голец:
— Вернемся к живописи. Что получается? Академия декларирует обучение живописи, но живопись там явно деградирует. Есть ли возможность вдохнуть новый смысл в живопись? Или бог с ней, пусть помирает?
Баршинова:
—Мы же сегодня говорим о том, что живопись бессмертна (смеются).
Балашова:
— Мне кажется, живопись как ремесло давно мертва.
Баршинова:
— Подождите. Что мы вообще понимаем под ремеслом? Мне работа Люси кажется очень даже ремесленнической.
(К разговору подключается Мария Ланько)
Балашова:
— Я последнее время много говорю об искусстве с нейрофизиологами. Как происходит процесс обучения? До какого-то момента нужно напрягать лобные доли и делать что-то сознательно. Когда мы выполнили задачу какое-то количество раз, она переходит в бессознательную форму. Простите за буквальную аналогию, но ребенок сначала учится ходить, а потом это происходит автоматически. Ремесло всегда завязано на такого рода автоматизм.
Мария Ланько:
— Одно другому не противоречит. Ты можешь использовать ремесло для решения разных интеллектуальных задач.
Балашова:
— Да, но в таком случае нужно преодолевать автоматизм. За это боролись модернисты, вроде Пикассо. Пытались вернуться в до-академическое состояние. Очень сложно провести линию не там, когда знаешь, где она должна быть. Это другой способ использовать ремесло: ты постоянно преодолеваешь привычку, опять включаешь лобные доли, теперь уже ради отказа. Для этого требуется сверхусилие. Получается, это уже не ремесло.
Ланько:
— Это искусство (смеется).
Голец:
— Точно! Черт возьми!
Балашова:
— Юля Гнат [замдиректора НХМУ по выставочной деятельности] любит эту фразу: «Простота по ту сторону сложности».
Голец:
— Вообще это деление на ремесло и искусство основано на представлениях романтиков. Еще Веласкесу приходилось доказывать, что он не живет за счет живописи, иначе его считали бы ремесленником. А в 19 веке возник эмфатический концепт искусства. Сквозь эту призму Запад извратил и восточное искусство. Приписал ему несвойственную символичность. На самом деле там чистый реализм. Смотришь на облака Хокусая — а в восточной Азии точно такие же, один в один. И отношение к искусству там совершенно иное. Я к тому что разделение на ремесло и искусство очень условно. Удобно какие-то вещи этим объяснять, но это не всегда работает.
Балашова:
— Я говорю о другом.
Баршинова:
— Хорошо. Как мы разведем тогда ремесло и школу?
Балашова:
— Школа — это способность воспроизводить некую традицию. Это связи. Давайте уйдем от искусства. Допустим, ты делаешь кувшины. Или рисуешь на тарелках. Чем точнее линия — тем лучше качество тарелки. Это делается мимо сознания, без усилия или мысли.
Голец:
— В принципе, это можно определить как различие между городской и сельской культурами. За традицию всегда было ответственно условное село. Оно воспроизводило некие паттерны, но не осознавало это как искусство. Это были иные практики. Искусство — городская история. Например, Катерина Белокур могла всю жизнь писать, но это стало искусством только когда попало в некий культурный контекст, который идентифицирует определенную деятельность как искусство.
Балашова:
— Плохой пример с Белокур. Но в общем я согласна.
Голец:
— Тогда Примаченко.
Баршинова:
— Даже не Примаченко…
Балашова:
— Полина Райко!
Голец:
— Примаченко писала еще до того, как к ней приехала киевская интеллигенция и сказала: «Вау, да это же модернизм».
Балашова:
— Все-таки, без момента ремесленничества ты не можешь стать живописцем. Но для того, чтобы делать живопись тебе нужно это преодолеть. Почему картины Люси вызывают интерес? Потому что с одной стороны — это живопись. А с другой — переосмысление травмы школы.
Голец:
— В силу нашей оторванности от мировых тенденций, у нас худо-бедно сохранилась живописная школа, как бы мы её не кляли. Я видел, как идет учебный процесс в Анси (Высшая школа искусств, Анси, Франция). Там живописная школа в нашем понимании отсутствует. Там учат творческой раскованности, креативности и так далее.
Балашова:
— Там нету двух первых стадий — ремесла и традиции.
Голец:
— Совершенно верно. Академизма как такового там нет.
Баршинова:
— У нас академизма как такового тоже нет. У нас академия возникла в те годы, когда в мире уже покончили с академией — так, как ее понимали братья Караччи, и в том виде, как она продержалась до ХIХ века. На тот момент академии уже пережили кризис и изменились.
Голец:
— Да, такой редуцированый академизм. Это конечно не академия «направленных на истинный путь».
Балашова:
—У нас есть школа, серебряный рисунок и так далее.
Баршинова:
—Школа — не академия. У нас был акцент не столько на системе, сколько на личности. Сначала были мастерские — Кричевского, Нарбута, Бойчука, Маневича. Люди могли переходить из одной в другую. С самого начала никакой академической системы не было. В 1920-е годы попытались создать некую систему, но уже на основе авангарда. Потом был соцреализм — реформа школы. Тогда мы приняли готовую модель из Ленинграда, но мне кажется, она уже наложилась на то, что у нас было до этого.
Балашова:
—Тогда школы были заменены искусственно.
Голец:
—Вот эта деградация школы хорошо заметна по рисунку. Я недавно смотрел архивные рисунки, начиная от довоенных, заканчивая 50–70-ми годами. Явно видно.
Баршинова:
—Реформа школы все равно вернулась к личностям. Правда, это случилось уже в послевоенное время. Скажем, в Ленинграде и в Москве в системе самой академии появляются такие, как Моисеенко, Мыльников.
Голец:
—Надо еще сказать, что в Киеве был сильный идеологический прессинг. Начиная с 30-х годов шаг вправо, шаг влево пресекались намного жестче, чем в Москве или Питере. Было меньше информации и обмена. Любой модернистский дискурс вытеснялся на маргиналии намного быстрее.
Баршинова:
—Возьмем еще Кричевского. Он получил карт-бланш. Теперь все говорят, что Яблонская, Мелихов, Григорьев — все ученики Кричевского. Получается, несмотря на академическую систему, личность Кричевского стала смыслообразующей, как синоним школы. Вот недавно мы запланировали сделать выставку учеников Сергея Григорьева. Ну, чем это интересно? А ученики — Стороженко, Левич, Лымарев, Вайнштейн. Казалось бы, такой кондовейший соцреализм, а породил целый список разнообразных живописцев.
Ланько:
— В продолжение Олиного рассказа. Через учителя в ученике из ремесленника может развиться что-то большее. Например, Голосий абсолютно преемственный в отношении живописного языка. Его учитель — Антонюк — такая добротная живопись на стеночку. А Голосий берет это умение и проводит его совсем в другую сторону и дальше.
Баршинова:
— Мы сейчас смотрим работы Голосия. У нас в музее есть одна его картина…
Ланько:
— Это не та легендарная картина, которую видела Люся? Она рассказывала о своей встрече с выпускной работой Голосия.
Баршинова:
— То выпускная. А у нас одна из последних, «Глаза». В фондах Академии есть одна его студенческая, которую он написал на первом курсе. Портрет мальчика в розовой рубашке. Страшно интересный момент в том, что художники воспитывают друг друга. Они получают эту школу, но кто-то становится салонным, овладевает приемом, так сказать, а кто-то ищет дальше. Не знаю, от чего это зависит, это интеллект или просто выбор.

Герман:
— Давайте вернемся к началу и сделаем резюме. Мы можем назвать современное украинское искусство все еще «живописецентричним»?
Балашова:
— Мне кажется, да. Но это не достоинство или недостаток. Просто все заведения, где формируются художники, так или иначе связаны с консервативными формами. Это не какая-то характеристика «украинской души».
Голец:
— Согласен. Это ни хорошо, ни плохо.
Ланько:
— Да, все художники умеют рисовать. Но как со-кураторка Фестиваля молодых украинских художников могу сказать, что програмно с живописью никто не работает. Люся — счастливое исключение. Все художники — продукты Академии, владеют ремеслом, но не могут его дальше использовать.
Баршинова:
— Они не переводят его в актуальное искусство.
Балашова:
— Вот! Это важно. У вас была нерепрезентативная выборка. Художники просто посылали заявку для определенных целей. То есть они просто не подавали живописные работы. Если бы это был какой-нибудь фестиваль живописи…
Ланько:
— В любом случае живопись не определяет вектор развития искусства. Можно сказать, что художники всё ещё часто пользуются живописью. Но если мы говорим об искусстве, которое встроено в выставочную систему, то нет, оно не живописецентирчно! Такое, каким оно было на рубеже 80-90-х годов — not anymore!
Балашова:
— С этим сложно не согласиться. Но наше понимание художественного процесса не тождественно тому, как он в реальности происходит. На примере шестидесятников и неофициального советского искусства. Может через 20 лет мы будем смотреть на наш период и видеть в нем что-то совсем другое.
Ланько:
— Я бы не согласилась. Да, художественное образование все еще живописецентрично, но искусство — нет.
Балашова:
— Просто существует консенсус: современное искусство больше не про живопись. Художники под него подстраиваются. Если мы завтра напишем манифест о возвращении живописи — половина художников будет только рада!
Голец:
— Характерный пример, который я всегда привожу — новая волна 90-х годов. Там все были гипер-живописецентричны, но очень хотели отойти от этого. Тогда все бросились в новые технологии, а потом появился покупатель с традиционными вкусами. Ему была понятна картина, которую можно повесить на стену. Ну и все вдруг побросали новые технологии и вспомнили, что они живописцы. Некоторые так застряли, что до сих пор там.
Баршинова:
— Как сказал Ройтбурд на круглом столе: «Видео каждый может сделать. А вот живопись!» (смеются)
Голец:
— Проклятая информация же хлынула. Нету больше герметичности. Молодые художники уже знают, что кроме живописи существует еще много чего.
Ланько:
— И с этим тоже можно жить. Ты можешь не делать что-то продаваемое, что-то станковое. И тем не менее быть полноправным участником процесса.
Голец:
— Тут мы переходим к новой экономике искусства.
Ланько:
— Да, и она позволяет более широкому кругу практик развиваться более стабильно.
Балашова:
— Помните художницу, которая выиграла Future Generation Art Prize — Линетт Ядом-Боакье. Тогда все не могли поверить, что победила живописная работа. Это пример живописи, которая пост-живописна.
Ланько:
— Там была чувствительная тема и позиция художницы.
Баршинова:
— Мне кажется, она захватывает своей экспрессивностью. Она самодостаточна как живопись.
Ланько:
— В экспозиции картины были частью концептуального и дискурсивного проекта. И плюс, она педагог, она занимается публичной деятельностью. Для нее работа именно с живописью — это «сознательное вписывание» в большую историю искусства people of colour.
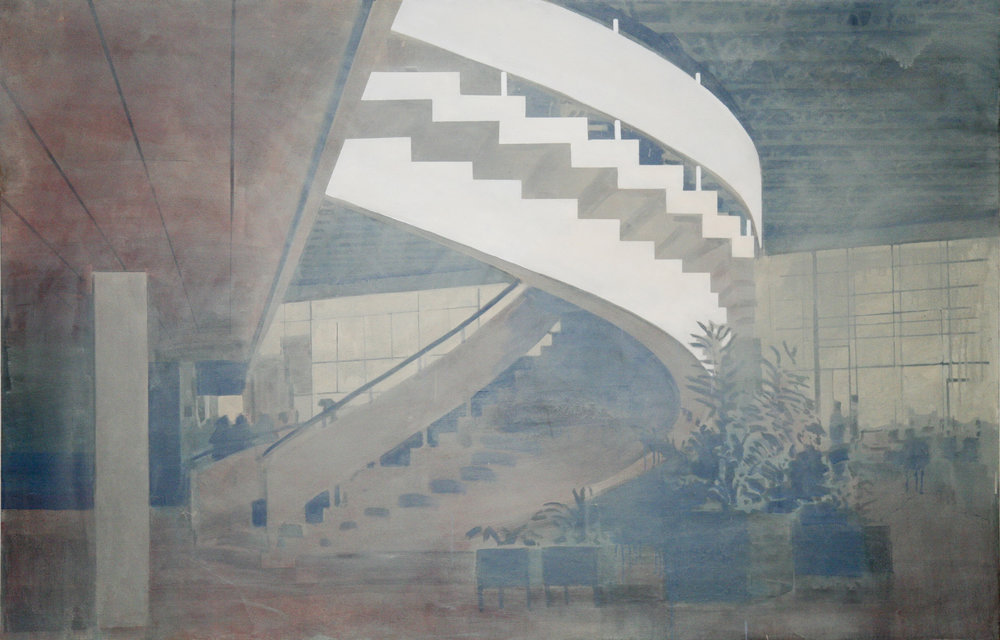
Балашова:
— У Люси это совпало просто: она прожила период отказа от живописи, понимания того, что такое современное искусство, и все равно сделала шаг в сторону живописи. А Лада Наконечная сделала шаг в сторону концептуальных решений, Никита Кадан начал фотографию отображать через живопись. А Люся исследует живопись средствами живописи. Это не какая-то наивная практика.
Голец:
— Я еще вот что подумал. Большинство из нас — выпускники этого самого учебного заведения. Кажется, мне так понравилась эта выставка именно потому, что я в той же парадигме нахожусь.
Балашова:
— Да все мы оттуда.
Баршинова:
— Путь живописи продолжается. Возвращаясь к недавнему Форуму авангарда в М17. Что он показывает? Что наше представление об авангарде тоже очень однобоко. Мы больше следим как раз за открытиями в сфере живописи. Почему факультет именно «формального» искусства у нас инициирован? Если бы мы больше знали об авангардистских фильмах, о фотографии, больше говорили об идеях в искусстве, то, возможно, мы бы апеллировали к более широкому полю искусства? Вот, например, Малевич же не останавливался на живописи, и когда был в Германии, на основе своих идей пытался сделать фильм, потом Ханс Рихтер его еще дорабатывал…
Балашова:
— А тебе не кажется, что это ради коммерческого успеха было сделано?
Баршинова:
— Безусловно. Тотальная власть кино давала о себе знать (смеется). А позже соцреализм выдвинул так называемую тематическую картину на первый план. И она все проглотила. Вот как Дима говорил, что у нас сурово давили модернизм. Картина сыграла в этом ключевую роль. На самом деле, разговор о живописецентризме — это продолжение соцреалистической традиции.
Голец:
— Еще о жанровом разделении. В киевской школе еще довлел некий пейзажецентризм. Куда ни ткни — везде пейзаж. А днепропетровская школа на этом фоне резко отличается. Она всегда тяготела к многофигурным композициям, жанровым вещам.
Балашова:
— Я тоже обратила внимание. У Люси очень много пейзажей, но в каждом пейзаже все равно будет хоть маленький, но человечек, собачка или еще кто-то. Она превращает пейзаж в рассказ.
Герман:
— Пейзаж как место действия.
Голец:
— Интересно. Если вернуться к классикам. Самое яркое проявление пейзажецентричности — это живопись Сергея Шишко. Когда он пытался писать фигуры — это было ужасно. Была такая явная заказуха для колхоза, где мастерски написанное поле, а посреди поля стоит Волга и какой-то, скажем, председатель колхоза. Так вот у него плечи были размером с волгу! Продать это было невозможно.
Баршинова:
— Одесситы тоже вполне разнообразные.
Голец:
— А в Крыму было Симферопольское училище. Так же как Запорожская школа вдохновлялась Владимирском, то крымская, вспомнить того же Захарова, — это все традиция Союза русских художников.
Баршинова:
— Коровин особенно.

Герман:
— Резюмируем: Днепропетровская школа жива. Линия Голосия жива. Может, не стоит даже стесняться говорить о школе, линии, мазке и так далее.
Голец:
— Оно все живет своей жизнью. Надо будет ему умереть — умрет.
Баршинова:
— На самом деле никакого разрыва традиции у нас нет. Точно так же как разрыва поколений.
Голец:
— Взглянуть по другому — и окажется, что у нас такая вообще связь поколений, которой нет нигде! Мы же ищем «тяглість» с модернистскими практиками, а связь с официальным советским искусством отбрасываем. Поэтому в Харькове эта «тяглість» заметна: вот тут Ермилов, дальше Бахчинян, а вот тут Маков. А в Киеве…
Герман:
— Малевич, а потом сразу Савадов.
Голец:
— Через Пузырькова!
Балашова:
— Малевич + Пузырьков = Савадов!
(Смеются)

Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: